
В «Истории одного города» сатирик изобразил оловянных солдатиков, которые оказались гораздо более пригодными для войска Бородавкина, чем настоящие солдаты. И не только потому, что провианту не просили, а маршировку исполнять могли.
- Еще более важным было то обстоятельство, что оловянные солдатики отличались особой неуклонностью и последовательностью в выполнении функций пресечения, бездушно и беспощадно подавляя «бунтовщиков».
- «Оловянность» их весьма наглядно демонстрировала те качества, которые прививались реальным, лживым» солдатам — выходцам из того самого крестьянства, которое они должны были «усмирять».
- В рассказе – сказке «Игрушечного дела людишки» писатель рисует целый ряд кукол, которые обладают способностью двигаться и принимать участие в представлениях, отражающих сцены из жизни людей.
При этом повествование свое писатель строит так, что читателю сразу становится понятна иносказательность замысла автора. Куклы, созданные игрушечных дел мастером Изуверовым,— это фактически те же люди, только деревянные.
А люди, в свою очередь, — это «живые куклы». И жизнь их — это жизнь марионеток, «автоматов».
Еще в 1869 году в «Письмах о провинции» Щедрин указывал на то, что определенные явления действительности (которые принято именовать «злом») «приносят вред обществу, останавливают свободное и естественное развитие народных сил, делают из людей автоматов…» (7, 280).
Далее эта мысль выражается уже в прямой форме. Указывая сквозь окно на соседку, вышедшую прогуляться, игрушечных дел мастер говорит: «Извольте взглянуть — чем не кукла – с?» И рассказчик соглашается, что та действительно похожа на куклу.
Затем мотив «кукольпости» получает новое развитие. Выясняется, что в реальной жизни очень мало тех, кого можно назвать «настоящими» людьми. И очень много «живых» кукол.
«Взглянешь кругом: все – то куклы! везде – то куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят! в отчаянность, в преступление вводят! Верите ли, иногда думается: «Господи! кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть!”»
Живые куклы оказываются чем-то еще более враждебным человеку и подлинной жизни, чем куклы деревянные. «С деревянным «человечком” я какой хочу, такой разговор и поведу. А коли надоел, его и угомонить можно: ступай в коробку, лежи! А живую куклу как ты угомонишь? она сама тебя изведет, сама твою душу вынет, нею жизнь тебе в сухоту обратит!»
Высказывания игрушечных дел мастера Изуверова о «живых куклах» в их сопоставлении с куклами, деревянными и предпочтение, которое он отдает последним, представляют собой острый сатирический выпад против тех многочисленных марионеток, которыми переполнено общество и которые мнят себя людьми.
Рассказчик, от лица которого ведется повествование, вроде бы не согласен с мнением Изуверова. Он предпочитает иметь дело с куклами живыми, а не деревянными.
«Я немало на своем веку встречал живых кукол,— говорит он,— и очень хорошо понимаю, какую отраву они вносят в человеческое существование; но на этот раз чувство немоты произвело на меня такое угнетающее впечатление, что я готов был вытерпеть бесчисленное множество живых кукол, лишь бы уйти из мира «людишек”. Даже госпожа Строптивцева, возвращавшаяся в это время по улице домой, — и та показалась мне «умницей”»
Как же обосновывает рассказчик свое предпочтение? «…Живых кукол,— отмечает он,— мы встречаем в разнообразнейших комбинациях, которые не позволяют им всегда оставаться вполне цельными, верными своему кукольному естеству.
А сверх того, они живут хотя и скудною, но все – таки живою жизнью, в которой имеются некоторые, общие людскому роду, инстинкты и вожделения. Словом сказать — принимают участие в общей жизненной драме.
Тогда как деревянные людишки представляются нам как – то наянливо сосредоточенными, до тупости последовательными и вполне изолированными от каких – либо осложнений, вызываемых наличностью живого инстинкта.
Участвуя в общей жизненной драме, вперемежку с другими такими же куклами, живая кукла уже по тому одному действует не так вымогателыю, что назойливость ее отчасти умеряется разными жизненными нечаянностями.
Деревянные людишки и этого отпора не встречают. У них в запасе имеется только одна струна, но они быот в эту струну с беспрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящего зрителя до отчаяния» (16, 1, 115).
- Приведенное рассуждение помогает нам лучше понять не только точку зрения рассказчика, но и некоторые особенности гротескного кукольного персонажа.
- Образ – кукла с его явной, сразу же понятной иносказательностью позволил Щедрину передать мысль о механистичности, автоматизме определенных социальных типов, враждебных жизни и человеку.
- Источник:
Михаил Салтыков-Щедрин – Игрушечного дела людишки
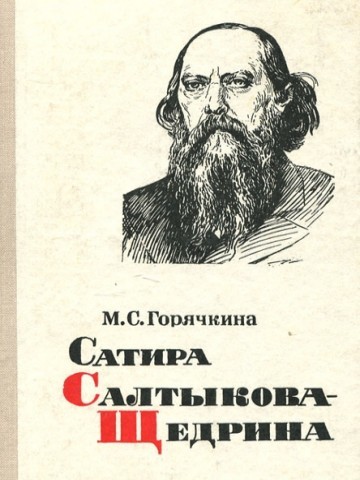
Так же Вы можете читать книгу онлайн без регистрации и SMS на сайте LibFox.Ru (ЛибФокс) или прочесть описание и ознакомиться с отзывами.
Источник: https://marketvirkutske.ru/romany/kratkoe-soderzhanie-igrushechnogo-dela-lyudishki-saltykov-shhedrin-tochnyj-pereskaz-syuzheta-za-5-minut.html
Михаил Салтыков-ЩедринИгрушечного дела людишки

![]()
В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб‑офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.
В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько‑таки езжал, во‑первых, потому что праздного времени было пропасть, а во‑вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс‑капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая‑нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: «Не верю; пусть ездит».
Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» – подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог.
Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать.
Исправники в них – непьющие; городничие – такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином – и сами говорят: «Баста!», городские головы – такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели‑трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.
К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе.
«За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» – восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал‑майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный – целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка… Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому‑де, что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!
Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть.
В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы – одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова.
Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным – кидал подачки.
С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.
Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей.
Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см.
«Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д.
Так что несколько странно видеть какого‑нибудь Идолова, которого предок когда‑то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.
К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй – скорпионы, третий – согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами.
И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во‑первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во‑вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в‑третьих, – лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий.
Изуверовы вместо того, чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением perpetuum mobile, и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие‑то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена‑соревнователя.
И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, – случилось нечто торжественное и чудное.
Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова…
Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?
Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца.
А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько‑таки туда езжали, во‑первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во‑вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.
Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что‑то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину.
Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного – заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица.
Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предержащей власти.
– Степан Степаныч! голубчик! – воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина, – а мы‑то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово «расправа» упразднено!
– Да… вот… – сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут «десятникам», присовокупил: – Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы… В бостончик? – обратился он ко мне.
– С удовольствием.
– Отлично. Милости просим! А я – вот только кончу!
И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.
– Говори! почему ты не хочешь с женой «жить»? Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.
– И баба‑то какая… Давеча пришла… печь печью! Да с этакой бабой… конца‑краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах! Но подсудимый продолжал молчать.
– Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж, иже жены своея. .» – хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: – Ах‑ах‑ах!
Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое‑то бесконечно тоскливое выражение.
– Говори! что ж ты не говоришь?
– Что же я, вашескородие, скажу?
– Будешь ли «жить» с женой как следует… как закон велит? Говори! Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.
– Вашескородие! Мне не токма что говорить, а даже думать… увольте меня, вашескородие!
– А коли так – марш в холодную! И завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать – так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!
И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:
– Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!
До бостона я с полчаса спорил с Вальяжным. Он говорил, что «есть в законах»; я говорил, что «нет в законах». Послали за письмоводителем – тот ответил надвое: «Сам не видал, а, должно быть, где‑нибудь да есть».
Аннушка, вслушавшаяся в наш разговор, тоже склонялась в пользу того мнения, что где‑нибудь да должно быть: «Потому, ежели они теперича в браке, то какие же это будут порядки, если жена свово положения от мужа получать не будет».
Даже подоспевший к бостону судья – и тот сказал, что нужно где‑нибудь в примечаниях поискать, потому что иногда где не чаешь, там‑то именно и обретешь сокровище. Кончилось тем, что Вальяжный приказал письмоводителю к завтраму отыскать закон и в заключение прибавил:
– А ночь он пускай в холодной посидит! Там что еще окажется, а ему – наука!
В течение вечера дело хотя и недостаточно, но все‑таки слегка для меня объяснилось. Обвиняемый был любезновский мещанин, Никанор Сергеев Изуверов, имевший в городе лучшую игрушечную мастерскую.
Человек трезвый, трудолюбивый и послушливый, он представлял собой идеал обывателя, каким ему перед богом и Страшным его судом предстать надлежит.
Слава об его мастерстве доходила некоторым эбразом даже до столиц, потому что всякий заезжий по делам службы столичный чиновник или офицер считал своею обязанностью поощрить «самородка» и приобрести у него несколько особенно хитрых игрушечных механизмов.
Говорили, что он не игрушки делает, а «настоящих деревянных человечков». И еще говорили, что если бы всех самородков, в недрах земли русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагам России и вовек бы не расхлебать.
Изуверов до сорока лет прожил одиноко с старухой матерью. Всецело углубившись в свою специальность, он, по‑видимому, даже не ощущал потребности в обществе жены; но лет пять тому назад старуха мать умерла, и Изуверова попутал бес. Некому было шти сготовить, некому – заплату на штаны положить. Он затосковал и начал было даже попивать.
В это время под руку подвернулась двадцатипятилетняя девица Матрена Идолова, рослая, рыхлая, как будто нарочно созданная, чтобы горшки из печи ухватом таскать. Изуверов решился. Он даже радовался, что у него будет жена сильная, печь печью; думал, что при сильной бабе в доме больше порядку будет.
Но, увы! Матрена с первых же шагов заявила наклонность не столько к тасканию горшков из печи, сколько к тому, чтобы муж вел себя относительно ее как дамский кавалер.
И так как Никанор Сергеев, по‑видимому, к роли дамского угодника чувствовал призвание очень слабое, то немедленно же обнаружилась полнейшая семейная неурядица, а под конец дело дошло и до разбирательства полиции.
Разумеется, на другой день письмоводитель доложил, что «в законах нет». Но, кроме того, оказалось и еще кое‑что, а именно, что даже «вспрыснуть» Изуверова нельзя, так как закон на этот раз гласил прямо, что мещане, яко образованные, от телесных воздействий освобождаются. Поэтому Изуверова тогда же выпустили, а жене его Вальяжный объявил кратко: «Закона нет».
Результат этого я отчасти приписываю себе. Конечно, я был тут орудием случайным и даже страдательным, но все‑таки, в качестве чиновника из губернии, в известной мере олицетворял авторитет. Я убежден, что, не наткнись я на сцену и не возбуди вопроса о том, есть ли в законе или нет, никто (и всех меньше сам Изуверов) и не подумал бы об этом.
Никанор Сергеев не только высидел бы в холодной свое «положенное», но, наверное, был бы и «вспрыснут».
Много‑много, если бы Вальяжный перед «вспрыснутием» сказал бы: «А ну, образованный, ложись!» Это был бы единственный компромисс, который он допустил бы в свидетельство, что в городническом правлении, действительно, имеется шкап, в котором, в качестве узника, заключен закон.
К стыду моему, я должен сознаться, что, очень часто слыша о необыкновенных способностях Изуверова, я до сих пор еще ни разу не полюбопытствовал познакомиться с произведениями его мастерства. Поэтому теперь, когда, помимо его репутации, меня заинтересовала самая личность «самородка‑механика», я счел уже своею обязанностью посетить его и его заведение.
Домик, в котором жил Изуверов, стоял в одной из пригородных слобод и почти ничем не отличался от соседних домов. Такой же чистенький, словно подскобленный, так же о трех окнах и с таким же маломерным двором.
Вообще мастерские и ремесленные слободы Любезнова были распланированы и обстроены с изумительным однообразием, так что сами граждане в шутку говаривали: «Точно у нас каторга!» В домиках с утра до ночи шла неусыпающая деятельность; все работали: и взрослые, и подростки, и малолетки, и мужеск, и женск пол; зато улицы стояли пустынные и безмолвные.
Я застал хозяина в мастерской одного. Изуверов принял меня с каким‑то робким радушием и показался мне чрезвычайно симпатичным.
Лицо его, изжелта‑бледное и слегка изнуренное, было очень привлекательно, а в особенности приятно смотрели большие серые глаза, в которых, от времени до времени, проблескивало глубоко тоскливое чувство.
Тело у него было совсем тщедушное, так что сразу было видно, что ему на роду написано: не быть исправным кавалером. Плечи узкие, грудь впалая, руки худые, безволосые, явно непривычные к тяжелой работе.
Когда я вошел, он стоял в одной рубахе за верстаком и суетливо заторопился надеть армяк, который висел возле на гвоздике. На верстаке лежала кукла, сделанная вчерне. Плешивая голова без глаз; вместо груди и живота – две пустые коробки, предназначенные для помещения механизма; деревянные остовы рук и ног с обнаженными шалнерами.
Источник: https://fictionbook.ru/author/mihail_evgrafovich_saltiykov_shedrin/igrushechnogo_dela_lyudishki/read_online.html
Салтыков-Щедрин — Игрушечного дела людишки
В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время.
И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб-офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горючими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.
В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько-таки езжал, во-первых, потому что праздного времени было пропасть, а во-вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс-капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я езжу в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: «Не верю; пусть ездит».
Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» — подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог.
Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слыхом не слыхать.
Исправники в них — непьющие; городничие — такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином — и сами говорят: «Баста!», городские головы — такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели — трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.
К числу таких веселящих начальственные сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе.
«За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» — восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный — целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка… Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому-де что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!
Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть.
В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощеные улицы — одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова.
Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головства и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным — кидал подачки.
С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.
Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей.
Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не токмо не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см.
«Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д.
Так что несколько странно видеть какого-нибудь Идолова, которого предок когда-то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.
К счастию для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй — скорпионы, третий — согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами.
И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во-первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во-вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в-третьих, — лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий.
Изуверовы, вместо того, чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением perpetuum mobile [вечного двигателя (лат.
)], и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена-соревнователя.
И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, — случилось нечто торжественное и чудное! Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова…
Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?
Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца.
А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько-таки туда езжали, во-первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во-вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.
Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину.
Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного — заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица.
Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предержащей власти.
— Степан Степаныч! голубчик! — воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина, — а мы-то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово «расправа» упразднено!
— Да… вот… — сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут «десятникам», присовокупил: — Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы… В бостончик? — обратился он ко мне.
— С удовольствием.
— Отлично. Милости просим! А я — вот только кончу!
И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.
— Говори! почему ты не хочешь с женой «жить»? Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.
— И баба-то какая… Давеча пришла… печь печью! Да с этакой бабой… конца-краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах!
- Но подсудимый продолжал молчать.
- — Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж, иже жены своея…» — хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: — Ах-ах-ах!
- Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно-тоскливое выражение.
— Говори! что ж ты не говоришь?
— Что же я, вашескородие, скажу?
— Будешь ли «жить» с женой как следует… как закон велит? Говори!
Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.
— Вашескородие! Мне не токма что говорить, а даже думать… увольте меня, вашескородие!
— А коли так — марш в холодную! И завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать — так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!
И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:
— Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!
Читать кратко о сказке Игрушечного дела людишки
Произведение повествует от имени рассказчика о некоем городке, которым управляет талантливый губернатор, превративший некогда захудалое поселение с пьяным населением в уютный уездный город, славящийся во всей округе производством различных ремесел.
Городской глава умеет найти способы управления населением, держа их в определенных рамках, что позволяет не только преумножать славу мастеров, но и принимать без стыда вышестоящее начальство.
Рассказчик, неоднократно бывая в городе, знакомится с одним из его мастеров по имени Никанор Сергеевич, который является непревзойденным автором игрушечных предметов. В руках Никанора Сергеевича игрушечные механические куклы начинают говорить и двигаться, что придает им ощущение волшебства и чуда.
Однако сам Никанор Сергеевич считает, что его игрушечные произведения на самом деле примитивны и не стоят тех денег, которые за них запрашивают. В пример он приводит куклу-невесту, отличительной особенностью которой является лишь фата.
Ремесленник показывает рассказчику кукольное представление, в котором изображает сцены провинциальной жизни уездного городка, производя на гостя неизгладимое впечатление.
Размышляя о своих куклах, мастер высказывает мнение, что игрушки напоминают многих живых людей, живущих искусственной, механической жизнью, а не настоящей.
Сказка демонстрирует размышления писателя о смысле человеческой жизни, которую многие проживают в образах живых кукол, так и не осознав настоящий, реальный мир, содержащий в себе разнообразие прекрасного, чувственного, возвышенного начал.
Картинка Игрушечного дела людишки

Источник: https://biblinka.ru/avtor/saltykov-shchedrin/saltykov-shchedrin-igrushechnogo-dela-lyudishki
Игрушечного дела людишкиТекст
– Это он по ошибке‑с! – объяснил Изуверов, – ему опять надлежало к «Мздоимцу» отъявиться, а он этажом ошибся да к «Лакомке» попал!
И рассказал при этом анекдот, как однажды сельский поп, приехав в губернский город, повез к серебрянику старое серебро на приданое дочери подновить, да тоже этажом ошибся и вместо серебряника – к секретарю консистории влопался.
– И таким родом воротился восвояси уже без сребра, – прибавил Изуверов в заключение.
Первую минуту и «Лакомка» и «Индюшка» стояли в оцепении, точно сейчас проснулись. Но вслед за тем оба зашипели, бросились на мужика и начали его тузить. На шум прибежал, разумеется, сторож и тоже стал направо и налево тузить.
Опять произошла довольно грубая «комическая» сцена, в продолжение которой действующие лица до того перемешались, что начали угощать тумаками без разбора всякого, кто под руку попадет.
Мужика, конечно, вытолкали, но в общей свалке, к моему удовольствию, исчезла и «Индюшка».
– Надеюсь, что она больше уж не явится? – обратился я к Изуверову.
- – Явится, – отвечал он, – но только тогда, когда вопрос о крамоле окончательно созреет.
- «Лакомка» остался один и задумчиво поправлял перед зеркалом слегка вывихнутую челюсть.
- Несмотря на принятые побои, он, однако ж, не унялся, и как только поврежденная челюсть была вправлена, так сейчас же, и даже умильнее прежнего, зазевал:
– Мамм‑чка! мамм‑чка! мамм‑чка!
Впорхнула довольно миловидная субретка[9] (тоже по рисункам XVIII столетия), скромно сделала книксен и, подавая «Лакомке» книжку, мимикой объяснила:
– Барышня приказали кланяться и благодарить; просят, нет ли другой такой же книжки – почитать?
Увы! к величайшему моему огорчению, я должен сказать, что на обертке присланной книжки было изображено: «Сочинения Баркова. Москва. В университетской типографии. Печатано с разрешения Управы Благочиния»[10].
Я так растерялся при этом открытии, что даже посовестился узнать фамилию барышни.
Между тем «Лакомка», бережно положив принесенный том на стол, устремился к субретке и ущипнул ее. Произошла мимическая сцена, по выразительности своей не уступавшая таковым же, устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа[11].
- – Еще ничего я от вас не видела, – говорила субретка, – а вы уж щиплетесь!
- Тогда «Лакомка», смекнув, что перед ним стоит девица рассудительная, без потери времени вынул из шкапа банку помады и фунт каленых орехов и поверг все это к стопам субретки.
- – А ежели ты будешь мне соответствовать, – прибавил он телодвижениями, – то я, подобно сему, и прочие мои сокровища не замедлю в распоряжение твое предоставить!
- Субретка задумалась, некоторое время даже рассчитывала что‑то по пальцам и наконец сказала:
- – Ежели к сему прибавишь еще полтинник, то – согласна соответствовать.
Весь этот разговор произошел ужасно быстро. И так как не было причины предполагать, чтоб и развязка заставила себя ждать (я видел, как «Лакомка» уже начал шарить у себя в карманах, отыскивая требуемую монету), то я со страхом помышлял: «Ну, уж теперь‑то наверное скандала не миновать!»
Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись в этот день без «лакомства».
В ту минуту, когда он простирал уже трепетные руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности, за боковой кулисой послышались крики, и на сцену ворвалась целая толпа женщин. То были старые «Лакомкины» прелестницы.
Я счел их не меньше двадцати штук; все они были в разнообразных одеждах, и у каждой лежало на руках по новорожденному ребенку.
– П‑ля! п‑ля! п‑ля! – кричали они разом.
- «Лакомка» на минуту как бы смутился. Но сейчас же оправился и, обращаясь в нашу сторону, с гордостью произнес, указывая на младенцев:
- – Таковы результаты моей попечительной деятельности за минувший год!
- Этим представление кончилось.
После этого Изуверов разыграл передо мной еще два «представления»: одно‑под названием «Наказанный Гордец», другое – «Нерассудительный Выдумщик, или Сделай милость, остановись!» Я, впрочем, не буду в подробности излагать здесь сценарий этих представлений, а ограничусь лишь кратким рассказом их содержания.
Пьеса «Наказанный Гордец» начиналась тем, что коллежский асессор появился в телеге, запряженной тройкой лихих лошадей, и с чрезвычайной быстротой проскакал несколько кругов по верстаку. Едва въехал он на сцену, как во всю мочь заорал: «Го‑го‑го!», объявил, что едет на усмирение, и дал ямщику тумака в спину.
На нем было форменное пальто с светлыми пуговицами и фуражка с кокардой на голове; в левой руке он держал мешок с выбитыми, по разным административным соображениям, зубами, а правую имел в готовности.
Несмотря на захватывающую дух езду, он ни на минуту не переставал гоготать, мерно ударяя ямщика в спину, вылущивая ему зубы и лишая волос. Наконец частные членовредительства, по‑видимому, показались ему мало действительными и он решил покончить с ямщиком разом. Снял с него голову и бросил ее в кусты.
Почуяв свободу, лошади бешено рванули вперед, и я уж предвидел минуту, когда телега и ее утлый седок будут безжалостно растрепаны; но, к счастию, станция была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади, как вкопанные, остановились перед станционным столбом и тотчас же все три поколели.
Покуда «Гордец» скакал последние полверсты, я заметил, что на станционном дворе происходило какое‑то чрезвычайно суетливое движение; но когда тройка подскакала и раздалось раскатистое «го‑го‑го!», то никто на этот оклик не ответил.
«Гордец», закинув голову назад, ходил взад и вперед, держа в руках часы и твердо уверенный, что через минуту новая перекладная будет подана. Но урочная минута прошла, и никакого движения не проявлялось. Тогда «Гордец» удивленно огляделся кругом, и унылая картина предстала очам его…
Почтовый двор стоял одиноко в лесу, и внутри его все словно умерло. Какие‑то таинственные звуки доносились со двора, не то шепот, не то фырканье, да слышно было, что где‑то вдали, в лесной чаще, аукается леший.
«Гордец» отлично понял, что тут кроется противодействие властям, и сейчас же бросился на розыски. Действительно, не прошло и минуты, как он вытащил за шиворот из потаенных убежищ писаря и четверых ямщиков.
И, по мере того как вытаскивал, немедленно лишал их жизни даже без допроса. Когда же лишил жизни последнего ямщика, то вновь возопил: «Го‑го‑го!», думая, что теперь‑то уж непременно выедет готовая перекладная. Однако и на этот оклик никто не явился.
Тогда, вне себя от гнева, он поймал петуха и оторвал ему голову; потом, завидев бегущую собаку, погнался за ней, догнал и разорвал на части. Но и это не помогло.
Между тем времени прошло немало; на землю спустились сумерки, и в глубине леса показалось стадо голодных волков.
Впервые в голове «Гордеца» блеснула мысль, что если б он не заботился так много об ограждении прерогатив власти, то, вероятно, в эту минуту преспокойно продолжал бы путь, а может быть, доехал бы уж до места.
А волки между тем, почуяв убиенных, подходили всё ближе и ближе и подняли, наконец, такой надрывающий душу вой, что даже вороны, облепившие в чаянии пира, соседнюю сосну, поняли, что тут взятки гладки, и, с шумом снявшись с дерева, полетели дальше.
Мрак сгущался, волки выли, лес начинал гудеть… Долго крепился «Гордец», все думал: «Не может этого быть!» – но наконец заплакал.
Плакал он много и горько, плакал безнадежно, как человек, который неожиданно понял, сколько жестокого, сатанински бессмысленного заключает в себе акт лишения жизни.
И, плача, вспоминал папеньку, маменьку, братцев, сестриц и горько взывал к ним: «Где вы?» Потом обратился мыслью к начальникам и тоже вопиял: «Где вы?» И среди этой агонии слез – кощунствовал, говорил: «А ведь управлять и опустошать – не одно и то же!»
Но тут совершилось нечто ужасное. Стая волков настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой «Гордеца». Еще минута – и на пороге станционного дома валялась одна фуражка, украшенная кокардою…
Содержание «Нерассудительного Выдумщика» было несколько сложнее.
Некоторый коллежский асессор, получив власть, вдруг почему‑то сообразил, что она дана ему не напрасно. А так как начальники, облекшие его властью, ничего ему на этот счет не объяснили, то он начал додумываться сам.
Думал‑думал и наконец выдумал: власть дается для искоренения невежества. «Уж больше столетия, – сказал он себе, – как коллежские асессоры искореняют русское невежество, а толку все нет.
Отчего? А оттого, сударь мой, что не все коллежские асессоры в одинаковой силе действуют. Много есть между ними мздоимцев, много прелюбодеев, много зубосокрушителей и очень мало настоящих искоренителей невежества.
Начнет истинный искоренитель искоренять, а невежество возьмет да за полтинник откупится. А надо так на невежество нажать, чтоб ему вздыху не было, чтоб куда оно ни сунулось – везде ему мат».
И как только решил про себя «Выдумщик», какая ему задача предстоит, так сел за письменный стол, да с тех пор и не выходит оттуда. Не пьет, не ест, не спит – всё «нерассудительные» выдумки выдумывает.
Строчит с утра до вечера; но так как он и сам не понимает, что строчит, то все выходит у него без связи, вразброд. То вдруг, с большого ума, покажется: оттого в России невежество, что община по рукам и по ногам мужика связывает, – и вот готов проект: общину упразднить.
То вдруг мелькнет: оттого царствует невежество, что в деревнях хороших племенных жеребцов нет, – немедленно таковых приобрести! Или вздумается: истинное основание русскому невежеству полагают кабаки – сейчас резолюции: кабаки закрыть, а вместо оных повсеместно открыть торговлю печатными пряниками.
А наконец и еще: куда были бы мы просвещеннее, если б мужики сеяли на полях, вместо ржи, персидскую ромашку, а на огородах, вместо репы, морковь! И опять резолюция: дать знать, кому ведать надлежит, и т. д.
Но беда в том, что невежество упорно. Недостаточно сказать ему: «В видах твоего искоренения необходимо упразднить общину». Надо, кроме того, еще сделать его способным к восприятию этой истины. Иначе, пожалуй, оно и того не поймет, с какой стати его невежеством зовут и зачем непременно понадобилось его искоренить.
Каким же образом добиться, чтобы невежество сделалось способным к восприятию? Думал‑думал коллежский асессор и наконец хоть и с болью в сердце, но пришел к заключению, что самое лучшее средство – это экзекуция! «Конечно, – рассудил он сам с собою, – это то же самое, что в древности называлось „поронцами“, но ведь одно другого дороже: или церемониться, или достигать! Поронцы, так поронцы!»
И вот сидит он да нерассудительность свою не уставаючи тешит, а по дороге солдатики в рога трубят, а в рощице волостные начальнички веники режут, а на селе мужичок кричит: «Вашескородие! не буду!» Слышит эти крики «Выдумщик», но некоторое время делает вид, что не понимает. Однако ж, наконец, и он видит, что притворяться непонимающим дольше нельзя. Вскочит, приложит руку к сердцу и скажет в свое оправдание: «Знаю, милые, что ныне вам больно, но надеюсь, что впоследствии вы сами поймете, сколь сие было для вас полезно!»
И что всего ужаснее – не только неподкупен, но и неумолим. Сколько раз мужички всем миром ходили, хабару[12] носили, на коленях просили – не внемлет и не приемлет. «Глупенькие! – говорит, – стерпится – слюбится, а после вы меня же благодарить будете!»
Так у них до сих пор колесом дело и идет. Он нерассудительные выдумки выдумывает, они – вопиют: «Вашескородие! не будем!» Ромашку персидскую посеяли, а клопы пуще прежнего одолели; о племенных жеребцах докучали, а начальство, по недоразумению, племенных поросят прислало; кабаки закрыли – корчемщиков развели.
Одна только община о сю пору цела стоит: видно, уж сам бог ее бережет!
«Подьячие» были исчерпаны. Только и додумался Изуверов до этих четырех типов, да, может быть, и в самом деле только их и было в тогдашнее несложное время. Я, впрочем, был очень этому рад.
Несмотря на то, что мое посещение длилось не больше двух часов, я чувствовал какую‑то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную.
Как будто ощущение оголтения, о котором я говорил выше, мало‑помалу заползло и в меня самого, и все внутри у меня онемело и оскудело.
Источник: https://www.litres.ru/mihail-saltykov-schedrin/igrushechnogo-dela-ludishki/chitat-onlayn/page-5/







